«Главная боль — этичность происходящего» Автор «Нестрашной книги о раке» Полина Шило — про свой бестселлер и состояние дел в российской онкологии

«Меня зовут Полина Шило, я практикующий врач-онколог. Фамилия соответствует моему образу жизни» — так начинается «Нестрашная книга о раке». Нон-фикшн-издание, написанное действующим онкологом, — редкость для российского книжного рынка, тем более в формате большого мануала, почти энциклопедии. Возможно, именно поэтому уже через неделю после выхода научно-популярная книга программного директора Высшей школы онкологии, лауреатки рейтинга Forbes «30 до 30» и выпускницы Гарвардской школы медицины стала бестселлером в онлайн- и офлайн-магазинах: бумажная версия была выпущена в апреле, а в мае, судя по информации на сайте издательства, тираж пришлось допечатать.
Каково это — писать книгу спустя три с половиной месяца после смерти мамы и спустя три месяца после рождения дочери? О чем она? С какими трудностями сегодня сталкивается российская онкология и люди, которым диагностировали онкологическое заболевание? И почему Полина Шило не собирается эмигрировать? Обо всем «Гласная» спросила у автора «Нестрашной книги о раке».
— Долго вы писали книгу? Как нашли время?
— Я очень давно думала о том, чтобы написать книгу, и ждала, пока звезды сойдутся. Мне сложно было писать ее без дедлайна, а когда у тебя есть готовый контракт, пишется гораздо динамичней. Было оговорено, что я напишу книгу за семь месяцев. Я не успела за семь — хорошо, что ко мне не применили никаких санкций, хотя в контракте даже была прописана неустойка.
— Насколько я понимаю, вы сорвали дедлайн не из-за прокрастинации, а потому, что у вас очень жесткий график.
— Наверное, можно было изначально поставить другие сроки, с учетом жесткого графика. Но книга — это задача, которая действительно очень уязвима перед прокрастинацией. Когда ты думаешь: «Надо сесть и писать», она, естественно, не пишется. Надо дробить задачу на маленькие кусочки, и это тот навык, который я приобрела. Хотя это непросто.
— Есть идеальные условия для письма?
— В моем случае они недостижимы, потому что у меня маленький ребенок, все это делалось, пока ребенок спал. Я начала писать книгу, когда дочери было три месяца, а закончила, когда ей исполнилось год и три месяца. Благо тут такая информация, которую постоянно проговариваешь [пациентам], думаю, по некоторым главам это будет видно. Но, например, про биологию опухоли я на каждом приеме и в таком объеме не рассказываю. Эту главу мне было написать сложно, надо было постоянно думать, как лучше объяснить, как будет более понятно.
— У нас практически нет отечественной литературы нон-фикшн от онкологов и об онкологии.
— Это была как раз моя мотивация для того, чтобы написать книгу. Личных историй много, они неплохо написаны, но такого, чтобы человек прочитал и понял, что вообще происходит, почему [именно] с ним, как все работает, как принимаются решения, — такой книги я не нашла. И решила, что эту дырку надо обязательно заткнуть. Почему бы не собой?
Были предложения назвать книгу «Почему я?», но я решила не делать этого: единственный возможный ответ на такой вопрос — нипочему.
— Книга посвящена вашей маме. Она ведь умерла от рака?
— Да. Мама умерла полтора года назад, за две недели до того, как у меня родилась дочь. Это была ужасная история, и беременность из-за этого была просто кошмарной. Книга посвящена маме. Но я понимаю, что людям, которые болеют, которым страшно, моя личная история не нужна. Она упоминается вскользь в последней главе, где я говорю, как вести себя с онкологическим пациентом, что можно говорить, чего нельзя. Эта глава вычитана онкопсихологом, мы убрали оттуда все триггеры.
— Какие из них основные?
— Понятно, что есть разная степень проработанности травмы, все зависит от того, насколько давно человек живет с диагнозом, какие фазы принятия он прошел. Я максимально аккуратна с описанием физических страданий, с терминами типа «выживаемость» — само слово для неподготовленного человека звучит пугающе. Когда у него, например, локальная стадия заболевания и он может полностью вылечиться с вероятностью 90 процентов, а ты начинаешь рассказывать про пятилетнюю выживаемость, он думает: «А что, больше пяти лет никак?» Я максимально обезличила последнюю главу (про психологию происходящего). Там есть личные примеры — того, с чем столкнулась моя мама. Когда ей не разрешали выйти на работу, говорили: «Ты сначала вылечись». Это такое поведение сообщества, которое укладывается в рамки текущей нормы, но оно неправильно по отношению к болеющему человеку. Причем это делается не из плохих, а из хороших побуждений вроде «отлежись, когда выздоровеешь — выйдешь», [но] в случае с мамой было абсолютно понятно, что никто ни от чего не выздоровеет. Ей просто надо было находиться в социуме.
— Корректно спросить, чем именно она болела?
— У нее была глиобластома, злокачественная опухоль головного мозга. Мама болела суммарно полтора года. Такая болезнь, к сожалению, лечится погано, несмотря на все успехи медицины. Даже люди со всеми деньгами и всеми связями мира перед ней практически бессильны.
— Можно сказать, что без мамы не было бы и книги?
— Честно говоря, думаю, что была бы. Просто она была бы другая. Я убирала триггеры не только как человек, который каждый день работает с онкологическими пациентами, но и как родственник. Да, это было ужасное время для нашей семьи, но вместе с тем это был и опыт для меня: ты лучше распознаешь какие-то реакции человека, который к тебе пришел, считываешь какие-то моменты.
— Будете ли вы еще писать книги?
— Я хочу написать «Нестрашную книгу о раке молочной железы». Это одна из самых распространенных нозологий, у меня здесь больше всего пациентов, отработанных ситуаций. Плюс, в моем понимании, это та категория пациентов, которые активнее всего ищут информацию, самые активные пациентские сообщества.

Ежегодно в России выявляется около 55 тысяч случаев рака груди. Это много. И за статистикой — истории десятков тысяч женщин, которые борются с болезнью каждый день.
«После выхода книги мне стали писать с угрозами»
— В книге вы рассказываете про странные и нелепые способы лечения рака. Можно об этом чуть подробнее?
— Бывают рецепты забавные, довольно безобидные, когда говорят, например, пей пиво со сметаной. В принципе, ничего ужасного, хотя пить пиво литрами не надо, все-таки алкоголь с противоопухолевой терапией не очень сочетается. Или северный рецепт для поднятия лейкоцитов — употреблять икру морского ежа. Это такие вещи, от которых я людей не сильно отговариваю, верят — и ради бога.
— Как правило, врача не ставят в известность о нетрадиционных схемах лечения.
— Зависит от глубины коммуникации. Я всегда стараюсь эту коммуникацию углубить настолько, насколько это возможно. Условно, ты беседуешь с человеком и спрашиваешь: «А что еще вас беспокоит? А еще? А еще?» И тогда он говорит: «Ну я тут прочитал…» Или: «Я тут принимаю…» Он, естественно, не говорит это с порога, он скажет это, только когда поймет, что тебе можно доверять, что ты на него не набросишься с оскорблениями. Обычно эти моменты мы проговариваем под конец консультации.
— А если вернуться к странным рецептам — какие они?
— Перекись водорода пытаются засовывать в самые разные места человеческого организма, заливать в вены, пить, вводить ректально. Никому не помогает, это как минимум ожог слизистой, а если вводить внутривенно, то запросто можно умереть. Я ознакомилась с трудом одного товарища, «эксперта» в данном вопросе, и была в ужасе. Там все основано на единичных случаях, которые он описывает, причем неизвестно, реальные это случаи, он сам их придумал или это просто «ошибка выжившего». Кстати, после выхода книги мне стали писать фанаты этого гражданина с угрозами, пока я их всерьез не воспринимаю.
Сода чуть более безобидна, если не заливать ее внутривенно, но тоже связана с мыслями «организм закислился, раз в нем завелся рак, значит, организм надо ощелочить». Абсолютно нерабочая история: если организм закислился настолько, что его нужно ощелачивать, значит, человек лежит в реанимации в тяжелом состоянии, и у него ацидоз.
Из очень опасных — лечение рака инсулином: человеку вводят инсулин, доводят его фактически до коматозного состояния, сахар в крови очень сильно снижается. На это опухоль вроде бы должна отреагировать «Ой, сахара нет, я умираю!» Но она так не делает, потому что у опухоли есть альтернативные источники питания, в отличие от основного организма. А угробить человека запросто можно. Я видела памятку на листе А4, где предлагалось это делать в домашних условиях, вводить в гипогликемическую кому, типа: «Если глазки закрываются, дайте больному немножко сахарка». Несколько лет назад врачебное сообщество инициировало скандал, потому что в одной из питерских больниц врач-онколог реально этим промышлял, у него была личная практика. Его уволили, пациентов с такими бумажками я больше не встречала. Надеюсь, они не делают это подпольно, а действительно прикрыли лавочку.
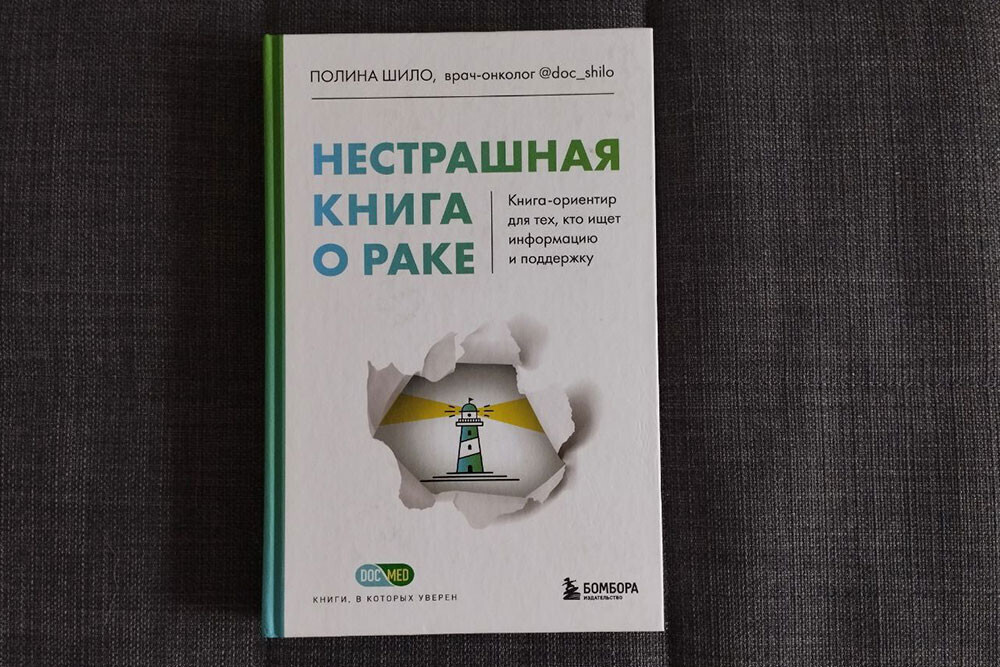
— Вы много пишете и говорите о том, что можно и чего нельзя пациентам после перенесенного онкозаболевания. Какие здесь самые распространенные мифы?
— Человек по умолчанию считает, что ему ничего нельзя, причем речь идет не только о пациенте в ремиссии, но и о том, кто находится на поддерживающем лечении, у кого стабильная фаза заболевания: он принимает какие-то препараты, но, условно говоря, не получает высокодозную химиотерапию прямо сейчас. На самом деле по умолчанию ему, скорее, можно то, что он сам себе запретил (или врач ему).
— Люди часто думают, что питанием можно сильно повлиять на выздоровление. Это так?
— Очень сильно повлиять питанием не получится, а если и получится, то, скорее, на качество жизни, самоощущение, но уж точно не на прогрессирование заболевания. Рак питается тем же, чем другие клетки организма, и еще кое-чем, у него широкий потенциал. Оттого, что мы уберем сахар, белую муку, мясо, ничего не произойдет. Особой диеты онкологического пациента не существует, нужно просто питаться максимально здоро́во.
Попытка запротоколировать питание у онкологического пациента и его родственников связана с тем, что человек так пытается победить тревогу. «Я не могу контролировать полностью свое состояние, но я могу проконтролировать свое питание, буду думать, что мне от этого станет лучше». Это психологический трюк, который, наверное, помогает, но лучше бы не справляться с тревогой с помощью жестких самоограничений, от которых пользы не будет, а сходить к психологу.
— У меня огромное количество знакомых пьют антидепрессанты.
— Это более рациональный способ. А когда человек приходит и с порога говорит: «Мы сразу мясо убрали, молочку», и сидит несчастный болеющий родственник, который очень любил покушать… Мало того что он раком болеет, его еще и удовольствий лишили.
Курение вызывает рак легкого, это общеизвестно. Отказ от курения снижает риски рака легкого. Есть информация о том, что когда человек был пролечен от локальной стадии рака легкого, то отказ от курения снижает вероятность рецидива. Но вот приходит пациент с метастатической стадией [рака легкого]. Мы сколько-то можем его протянуть, но не бесконечное количество времени. Родственники на него набрасываются: «Бросай курить, да порезче, да побыстрее!» Это очень сомнительный совет: в такой ситуации ничего, кроме испорченного качества жизни, мы не получим.
Запреты должны быть максимально обоснованны. А у нас принято так: на море нельзя, есть ничего нельзя, в баню нельзя, на массаж нельзя — ничего нельзя.
— А мы с вами говорим, что все можно?
— Должен быть здравый смысл. Если у человека механические проблемы с позвоночником из-за опухоли, то, наверное, на глубокий массаж ему не надо. Тому, у кого недавно был перелом шейки бедра из-за того, что опухоль разрушила сустав, не надо идти кататься на горных лыжах. Любые действия и идеи нужно обсуждать с врачом.
— В государственной медицине, когда на прием выделяется 15 минут, это в принципе невозможно.
— Невозможно. Там максимум может быть какое-то человеческое отношение, а больше ты ничего не успеешь. Куча вопросов остаются непроговоренными, поэтому у человека возникает информационный вакуум. За 15 минут можно объяснить только минимум, к сожалению, такова государственная система.
— Вы в ней работали? Или всегда в частных клиниках?
— Работала. Во-первых, проходила ординатуру и после этого год проработала в городской больнице Москвы. Там был максимально «неотобранный» контингент пациентов, и это был тоже очень полезный опыт. Потом я перешла в частную медицину, и мне очень понравилось — в плане того, что ты можешь делать, как можешь общаться, в плане свободы действий. Когда у тебя хорошее, адекватное руководство с определенными принципами, ты понимаешь, что реально можешь делать лучше для пациента.
«Не хочется проращивать токсичную позитивность»
— Тут мы возвращаемся к государственной медицине, поскольку частная большинству не по карману. Такая обычная российская практика, как хамство врачей, с чем связана?
— Я думаю, здесь комплекс причин. Да, хочется поругать систему. Ведь в основном в медицину идут не для того, чтобы хамить другим. Изначально студенты — это трепетные, милые, нежные создания, которые хотят спасать людей. Я не видела никого из однокурсников, кто шел в медицину, чтобы хамить пациентам, все шли из человеколюбия.
В любой работе с людьми ты так или иначе выгораешь. Особенно если это наслаивается на какие-то личные события. Когда умерла мама, мне пришлось сделать паузу в коммуникации с пациентами (кроме письменной) на четыре месяца. Я поняла, что сейчас не в состоянии общаться вживую. Но когда работаешь в системе, где ты конвейер и тебе некуда больше пойти или нет даже времени подумать об этом, где ты сконцентрирован на выживании, а от результатов работы, кажется, ничего не меняется, — да, конечно, тут кто угодно начнет хамить. А так-то все шли людей спасать.
— Из-за этих пресловутых 15 минут на прием онкопациент становится «сам себе врач». Крайне неприятно и когда человек вынужден сам принимать решения, а это можно наблюдать сплошь и рядом. Должен ли пациент быть минимально медицински грамотным или нужно полностью доверяться врачу?
— Нет однозначного ответа на этот вопрос. Иногда человек очень много читает, но, в силу отсутствия профильного образования, читает не то. От этого его деятельность становится менее осмысленной, он себя загоняет в тревогу. Хочется сказать: «Пожалуйста, немножечко расслабьтесь, можно поменьше читать форумов?» Другая сторона вопроса — когда человек не участвует в своей же жизни. Так тоже быть не должно, это может навредить лечению. Мне кажется хорошей культура второго мнения, second opinion: сомневаешься — сходи спроси. Правда, когда человек начинает узнавать семь мнений, это также не очень адекватно, так пациент тратит время, ресурсы и загоняет себя в тревогу. Истина где-то посерединке.
— Вы в книге описываете историю, когда на прием пришел молодой пациент с впервые обнаруженной саркомой ноги. Он пришел с лучшим другом, весь прием они шутили, причем очень смешно, и это мешало вести серьезный разговор.
— Да, это была одна из парадоксальных реакций. К счастью, у пациента ситуация развивается хорошо: его прооперировали, ногу сохранили, он уже два года в ремиссии.

— Тем не менее такая позитивность (сейчас она очень часто декларируется) — это нормально? Рак в свете достижений медицины — это действительно не страшно, как можно понять из названия книги?
— Книга называется «Нестрашная книга о раке», но рак — это страшно. В какой-то ситуации — в большей степени, в какой-то — в меньшей, но рак — это жизнеугрожающее состояние. Человеку, которому диагностировали это заболевание, свойственно очень сильно бояться. Это животный страх, даже если удается обойтись, что называется, малой кровью. А книга не страшная настолько, насколько это возможно. Я постаралась непонятные вещи объяснить более понятно. Понимание уменьшает тревогу.
Что до токсичной позитивности — не хочется ее проращивать. Человек имеет полное право страдать, когда он болеет. Но есть пациенты, которые не страдают, и это здорово. Или, во всяком случае, активно себя ведут, а потому и терапию хорошо переносят. Например, сейчас у меня лечится пациентка. Я захожу к ней в палату — химиотерапия, она капается. И она спрашивает: «Полина Сергеевна, а через сколько капельница закончится? А то у меня обзорная экскурсия по Питеру, хочу успеть». Мне кажется очень важным, чтобы люди знали: и так тоже может быть.
У нас в клинике недавно пациентка пришла на первую капельницу с дочкой: в палате висит телевизор, они заказали пиццу и смотрят «Секс в большом городе».
Так, наверное, и должна проходить химиотерапия — конечно, если человеку лезет пицца. Может ведь и не лезть.
Противоположных ситуаций тоже очень много. Когда ты думаешь, что лечение сработает, ориентируешь человека на позитивное развитие событий, говоришь: «Вероятность того, что вы вылечитесь полностью, — 90 процентов». А он не вылечивается. И возвращается к тебе с бурным прогрессированием заболевания. Самый сложный разговор — не когда установлен диагноз, а когда ты говоришь: «Все, мы больше не можем ничего сделать». Не потому, что не хотим, а, например, организм не вывозит. Это, конечно, не значит, что мы перестаем лечить человека, мы лечим. Но цели терапии становятся другими — мы в большей степени концентрируемся на контроле симптомов.
— К слову, о достижениях. Сможет ли нейросеть поставить диагноз и заменить врача?
— Нейросети — это, конечно, очень интересная штука, думаю, мы еще не до конца понимаем их возможности. В плане практического применения в медицине есть такая тенденция: машинные алгоритмы уже помогают или будут помогать человеку. Есть нейросети, которые распознают образования на снимках, например, маммографии, и есть критерии подозрительности образования в молочной железе, которыми руководствуются врачи. Мы можем прогнать через нейросеть кучу снимков и научить распознавать по алгоритмам, что есть добро, а что — не добро. Может быть комбинированная система, где нейросеть подсвечивает подозрительные участки для врача: «Смотри, здесь кальцинат, надо обратить внимание». Но, наверное, в ближайшее время итоговая ответственность будет на враче. Здесь уже вопрос не развития науки, а этический: кто отвечает за трактовку результатов?
Просмотр скрининговых снимков — поточная работа, где глаз замыливается, и нейросеть поможет высвободить человеческие ресурсы. То же самое патоморфология, когда мы смотрим в микроскоп на структуры опухоли. Можно обучить нейросеть распознавать основные паттерны и описывать диагноз. Более простые алгоритмы уже используются для подсчета разных показателей. Например, есть индекс деления клеток Кi-67: доктор под микроскопом считает делящиеся клетки. Естественно, это можно заменить алгоритмами, сидеть, ставить зарубочки — довольно механическая работа.
«То, через что проходит человек после постановки диагноза, зачастую ужасно»
— Вообще, в российской онкологии какие точки сейчас самые болевые?
— Я считаю, что амбулаторное звено: скорость постановки диагноза, обследования, попадания человека на лечение — и этичность происходящего. Потому что происходящее в амбулаторном звене не очень этично. В Питере и Москве еще получше, в других местах — хуже. То, через что проходит человек после постановки диагноза, то, через что он проходит, когда ему нужно получить препарат, — это зачастую ужасно. Бывают совершенно дикие ситуации. Я маму пыталась уберечь от всего этого. Она жила в небольшом городе на юге страны, лечилась тут.
— По форме 057-у?
— Да, тогда с этим было проще. Оперировалась в Бурденко, облучалась и получала химиотерапию в ЛДЦ МИБС, в этом плане все было сделано на максимально высоком уровне. Но получала она эти формы по месту жительства. У меня была договоренность с местными врачами, и они все равно ей говорили: «Вы-то в Питер, думаем, не на химиотерапию ездите, просто хотите по городу погулять». Говорили человеку с большими щеками на дексаметазоне, с явными когнитивными проблемами после операции… Хотелось пойти поубивать всех. А переезжать в Питер мама была не готова.
— Вы ведь с ней и паллиатив прошли. Можно ли сказать, что паллиативная служба в стране стала лучше?
— Мне кажется, она становится лучше. Я не хочу обесценивать нечеловеческие усилия людей, которые делают ее лучше. Но в целом по стране паллиатив — это ад. В городке на юге, откуда мама, никакой речи об этом вообще не было. Мне пришлось маму экстренно перевозить сюда, все так быстро развивалось… Я была на седьмом месяце беременности, у меня была куча своих проблем. Муж находился в другой стране, у него не был готов документ для выезда, и было неизвестно, успеет он к родам или нет. Случились трудности с жильем, деньгами — все проблемы мира я собрала в тот момент. Смотрю на этот отрезок жизни и думаю: «Как вообще я это вывезла?»
Одна из самых болезненных мыслей — что я, к сожалению, не смогла обеспечить маме лучший уход. Я не стала отправлять ее в государственный хоспис: тогда еще была пандемия, а мне хотелось с ней видеться. Один негосударственный, притом что мне его рекомендовали, оказался неудачным. Поэтому я переместила маму в другое место. В итоге все произошло очень быстро, и эти принятые решения оседают где-то на подкорке. Их приходится прорабатывать теперь с психологом, ковырять бесконечное количество времени.
— Остались ли в России клинические исследования?
— Какие-то остались, но мало, к сожалению. Все западные, европейские и американские, компании ушли, а на то, чтобы рынок заместился новыми, например азиатскими, нужно время. От момента открытия исследования до момента попадания его в больницы может пройти пара лет. Российские компании не спят и что-то хорошее делают. Понятно, что на 100 процентов это все не восстановится, но какое-то движение есть.
— Есть сложности с лекарствами, препаратами? Просто пример: женщины с раком груди по всей стране второй год не могут получить тамоксифен импортного производства.
— Тамоксифен — вообще феномен, хотя у него и есть отечественный аналог. Я, кстати, против демонизации именно российских препаратов: бывает, что иностранные лекарства не суровая необходимость, а желание человека. В каких-то случаях местные покупать [действительно] не надо, такие кейсы тоже есть. Но глобально ситуация развивается лучше, чем ожидалось. В феврале прошлого года мы с глубокоуважаемым онкологическим сообществом ждали, что будет совсем плохо. Оказалось — не настолько, испытываем сдержанный оптимизм. Иммунотерапию пациент может получить, комбинированную таргетную терапию — тоже, на первые линии лечения почти все есть. Кроме некоторых препаратов — например, этопозида. Его приходится добывать с фонарями, но, к счастью, он не так часто нужен, и он заменяемый. В общем, ужас, но не ужас-ужас.
Конечно, пациенты это переживают иначе. Мы-то смотрим на общий срез, а у каждого человека своя личная история. И для него отсутствие тамоксифена — это персональная трагедия.
— Не секрет, что часть врачей сейчас уехала, часть — осталась. Чем руководствуетесь вы, оставаясь?
— Принципом максимальной пользы, которую я могу причинить этому миру.
Переехать — значит потратить огромное количество ресурсов на ассимиляцию, на то, чтобы разобраться, как и что там работает. Вместо того чтобы тратить время на полезную деятельность, ты пытаешься выжить.
С этим связан любой переезд в любую страну, насколько бы комфортным он ни был. Идея эмиграции мне не близка, но я всегда хотела какое-то продолжительное время пожить в другой стране. Это один из пунктиков, который я когда-то реализую. Скорее всего, это будут Штаты. Непонятно, что будет происходить дальше, но эмигрировать я не собираюсь.

Профессор Елена Гапова — о причинах давления на женщин с начала вторжения в Украину

Первая советская феминистка — о недолговечности патриархата и революционном потенциале сказок

Ася Казанцева* — о преследованиях, выживании и материнстве в современной России

Исследовательница «убийств чести» на Северном Кавказе ― о том, как их скрывают и почему защищать женщин в республиках становится все сложнее

Как говорили о любви и сексе в СССР и как говорят сегодня — историк Элла Россман

Документалистка Юлия Вишневецкая — о монологах жен вагнеровцев и протестном потенциале женских чатов
